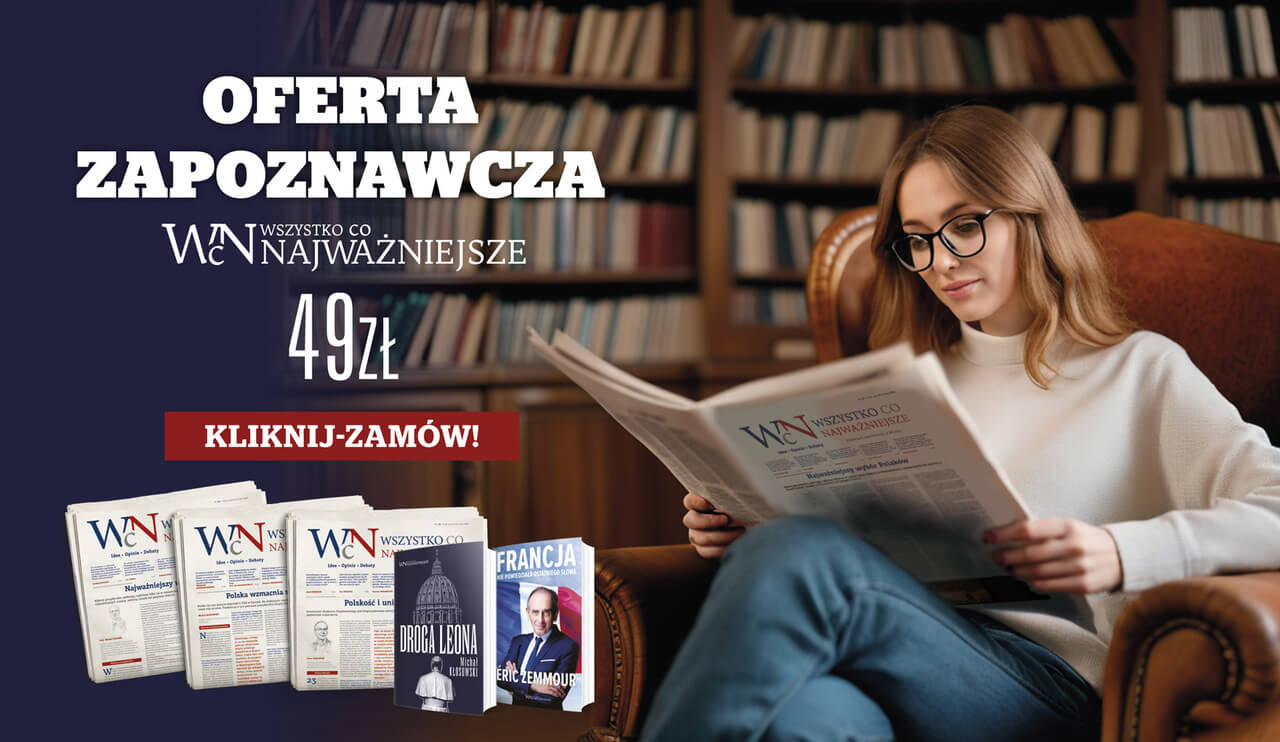Баллада
Баллада
«Баллада фа минор», которую считают наивысшим достижением жанра, благодаря ссылке на традиции и установлению направлений для последующих поколений композиторов, благодаря объективности средств и одновременно чрезвычайно личному высказыванию, становится квинтэссенцией синкретизма, специфическим символом романтического восприятия мира, и в то же время вневременным посланием понятным и творчески интерпретированным и по сей день – пишет Artur SZKLENER
«Сказ, сотканный из событий повседневной жизни или историй рыцарства, оживленный простой странностью романтического мира, запетый в меланхолическом тоне, серьезный по стилю, простой и естественный по выражению».[1] Трудно найти лучшее и краткое описание жанра, чем эти слова Адама Мицкевича, записанные в предисловии к «Балладам и романсам» – сборнику поэзии, публикация которого в 1822 году считается символическим началом польского романтизма.
Использование Мицкевичем жанра баллады в новой, романтической форме не было случайным. Делая это, он присоединился к направлению, начатому такими литературными великанами, как Бюргер, Шиллер и Гете. Но новая баллада также соблазняла молодое поколение тем, что больше всего его увлекало: аурой таинственности, сочетанием реального и сказочного миров, народным колоритом, выразительными персонажами, упрощенным сюжетом, драматическими центральными конфликтами и, наконец, своеобразным синкретизмом эпоса, лирики, драмы, ярких музык. Обращение к прототипам жанра XIII века еще больше усилило культурный контекст благодаря ассоциациям с памятниками уже покрытых толстым слоем мха топовидных концепций и взглядов, с народной моралью и мировоззрением.
Именно в ауре такого понимания романтизма рос Фридерик Шопен в Варшаве, окруженный не только выдающимися композиторами (во главе с Эльснером), преуспевающими музыкальными издателями и производителями фортепиано, или цветущей оперой того времени, но и поэтами Новой волны, такими как Витвицкий и Одинец. Еще в детстве он был известен своей любовью к импровизации эпических сцен в фортепиано. Особенно в интимных кругах, среди друзей, он организовывал занятия для своих друзей – учеников дворян в пансионе своего отца – во время которых повествование и растущее пианистское мастерство переплетались с игривым чувством юмора и бурной юношеской жизненной силой.
Эпический элемент стал настолько важным в творчестве Шопена, что, отойдя от классических и блестящих моделей, очевидных в его ранних варшавских композициях (особенно исполненных с оркестром), он обратился к жанру баллады, став первым создателем полностью бессловесной версии. Кажется, что баллады – кроме того, что они были естественно укоренены в окружающем молодого Шопена культурном контексте – были также ответом на давление писать патриотические оперы перед лицом краха Ноябрьского восстания и катастрофы польской государственности. К тому времени, когда он прибыл в Париж в 1831 году после месяцев одиноких ночных «молний по фортепиано» в Вене,[2] Шопен уже был достаточно зрелым и самосознательным, чтобы прекрасно различать свое увлечение оперой и голосами певиц, свою склонность к созданию нарративных форм, наполненных эмоциональными элементами и свои профессиональные композиторские предпочтения. Он знал, что посредством универсального языка музыки он может передать больше, глубже, шире.
Скорее всего, к тому времени у него уже были эскизы как первой баллады, так и первого скерцо – еще одного романтического жанра, который он фактически переосмыслил – доведя бетховенскую концепцию драматизированной «музыкальной шутки» (скерцо буквально значит „шутка”) до почти дьявольской крайности контраста. Он знал, что его сила состоит в исследовании фортепиано как музыкального космоса, уже предлагавшего способность имитировать не только лиризм и драму голоса, но и всего оркестра. Он знал, что его чувствительность и способ слуха стремятся к синтезу и сублимации, определенной экономии выражения и универсализации музыкального языка. И в этом контексте, равно как литературная баллада была в определенной степени эквивалентом драмы, так и баллада Шопена была эквивалентом оперы. В обоих случаях краткость сопровождается выразительностью, а сила эмоций усиливается ясностью послания.
Баллады Шопена
Кажется не случайным, что Шопен, так неохотно раскрывавший какие-либо подробности о происхождении собственных произведений, во время визита к Роберту Шуману в 1836 году, непосредственно перед публикацией своей первой из четырех – Баллады соль минор – вспомнил баллады Мицкевича как источник вдохновения. Шуман записал еще одну деталь с того визита – это произведение было особенно близко как ему, так и самому Шопену, и следует помнить, что именно Шуман, который открыл миру гений своего варшавского современника, был хорошо знаком с его последующими опусами, лишь бы постепенно все меньше и меньше понимать его индивидуальный и революционный путь музыкального преобразования. Однако баллады вызывали в нем большой энтузиазм, когда он стал получателем посвящения второму – в тональности фа мажор – он отметил: «Поэт мог бы с легкостью найти слова к такой музыке; она трогает до самой сущности».[3]
Шопен не только решил отказаться от текста, который был так тесно связан с жанром музыкальной баллады со времен Средневековья, что издатели в Германии и Англии, анонсируя новые произведения, объясняли, что это будут баллады без слов. По своей привычке он также не давал им никаких программных названий, которые могли бы указывать на их связь с конкретными литературными произведениями. Поэтому кажется, что вдохновение текстами Мицкевича, упомянутыми Шуманом, носило общий характер, касающийся их специфической ауры, типа повествования и драматической ясности. Хотя предпринимались попытки связать отдельные баллады Шопена со стихами Мицкевича, они не встретили принятия ни среди музыковедов, ни меломанов. Лишь музыкальная структура «Баллады фа мажор» с ее радикально отличными с самого начала двумя темами, необычным ключевым знаком (вторая тема, «дикая» по своей динамике, находится в ля миноре, что противоречит общепринятым нормам) и новаторским завершением произведения в тональности второй темы (вместо главной тональности) имеет некие аналогии со структурой баллады Мицкевича „Свитезь”, но эти аналогии кажутся настолько общими, что трудно было бы защитить тезис о сознательном изображении текста через музыку.
Литературная баллада, благодаря своей ритмической регулярности, специфическому мелодическому качеству и формальной структуре, например, наличию припевов, является одним из самых «музыкальных» жанров, даже если она лишена музыки напрямую. Шопен, в свою очередь, включает ряд лингвистических особенностей в свои баллады, как в способе формирования материала, его ритмических характеристиках, так и в эмоциональной выразительности. Каждая из его четырех баллад имеет несколько отличную структуру и драматургию, каждая по-разному трансформирует музыкальный материал, однако в каждой кульминация происходит только в заключительных тактах. Это нетипично для драматического расположения музыкальных композиций того периода – как правило, главная кульминация происходила вблизи золотого сечения формы, а конечная фаза композиции имела целью разрешить конфликты (включая согласование тем с основной тональностью) и успокоить эмоции. По этой причине часто упоминаются дугообразные свойства классических музыкальных форм. В балладах Шопена стремление к кульминации в самом конце произведения – несмотря на колебания напряжения на протяжении всего произведения – настолько характерно, что для этого типа формирование музыкальной композиции неоднократно появляется термин «балладная форма».
Особенно важно то, что в каждой из его баллад темы претерпевают трансформации, которые изменяют их характер, что является одним из мощнейших средств музыкального повествования в инструментальных произведениях. Слушатели склонны субъективировать музыкальные идеи, и когда их характер меняется, происходит своеобразное оживление или даже персонификация темы, в результате чего ее трансформации воспринимаются как трансформации самого персонажа, создавая историю. Развитие музыкальных тем имеет очень давнюю традицию, особенно исследуемую в эпоху барокко в так называемых остинатных вариациях, в которых неоднократно повторявшаяся басом постоянная формула сопровождалась все более смелыми, часто импровизированными аранжировками мелодии. Эти трансформации, однако, были в первую очередь направлены на демонстрацию возможностей инструмента и мастерства исполнителя, исследования техник и эффектов, которых можно достичь, а изменения в характере скорее были результатом примененных музыкальных изменений. Романтизм начал исследовать возможности трансформации характера тем для выразительных целей как средства построения музыкального повествования, и Шопен в своих балладах стал одним из пионеров этого направления. Уже в «Балладе соль минор» поначалу спокойная, почти безразличная первая тема постепенно приобретает драматические, даже трагические качества, тогда как чрезвычайно кантиленная вторая тема превращается в своеобразный апофеоз. Эта трансформация второй темы становится отличительной чертой балладных форм Шопена, хотя в вышеупомянутой второй балладе – фа мажор – вторая тема вроде бы поглощает первую, что может быть метафорической параллелью с затоплением незащищенного города водами озера перед лицом варварского вторжения русских войск. Однако, независимо от возможных литературных коннотаций, такие трансформации, включенные в музыкальную форму, придают ей нарративные качества и усиливают внушаемость художественного изречения без использования слов.
Еще одной важной особенностью баллад Шопена является способ организации музыкального материала и его акцентов. Композитор использует прежде всего сложный размер (6/8 или 6/4), что делает его темы похожими на ритмы песен. Не случайно идиллия Карпинского «Лаура и Филон» («Уже месяц прошел, собаки заснули | и что-то хлопает за лесом») написана в 6/8, и Шопен написал ее именно так в своем юношеском попурри, «Фантазии на польские мелодии». В стихотворении используется так называемая строфа Станислава (с переменной схемой слогов 10 + 8), которую Мицкевич также использовал в своих балладах, в частности в одной из самых известных «Свитезянка» («Что это за красивый и молодой парень? | Что это за девушка рядом?») и романсе «Дудаж». Мицкевич также использует расширенный вариант этой строфы (11 + 8, среди прочих в таких балладах, как «Свитезь» и «Возвращение Папы»). Эти сходства указывают на тесную связь между выбранным музыкальным размером и текстами литературных баллад. Этот размер позволяет многоуровневую группировку звуков и формирование их в слоги, слова, строки или строфы в стихотворении, тогда как количество единиц в такте позволяет разместить текст таким образом, чтобы каждая строфа соответствовала музыкальному периоду. Вторым метрическим приемом является использование основных стоп, таких как ямб или хорей, которые появляются в ключевых темах всех баллад Шопена, часто определяя их музыкальную сущность, как в первой теме Баллады фа мажор или второй Баллады ля-бемоль мажор, где мелодия возникает постепенно, после того, как регулярные ритмы уже были сыграны на тех самых нотах. Это можно понимать как своеобразную архаизацию высказывания, хотя чисто на музыкальном уровне, в частности в контексте гармонии, композитор намечает направления романтического авангарда в балладах. Однако, прежде всего, он ассимилирует ритм музыки с ритмом речи. Третий прием – это формирование мелодии, намекающей на вопросы и ответы, как в главной теме Баллады соль минор. Идентичное начало многих фраз также служит своеобразной анафорой, еще более согласуя музыкальный поток со структурой стиха. В конце концов, с более широкой точки зрения, Шопен словно размывает симметрии, сохраняет течение выражения и визуально трансформирует материал, создавая впечатление развернутого рассказа. И это сопоставление – определенная регулярность на микроуровне, но одновременно постоянная непрерывность на макроуровне – кажется самым искусным структурным достижением в построении истории без слов.
Все эти приемы сопровождаются необычайно ярким формированием эмоций через музыку. Любая попытка описать баллады Шопена без использования терминов с сильным эмоциональным подтекстом оставляет впечатление потери их сущности. Эти эмоции, сформированные невероятно выразительным образом, взаимопроницаемые, трансформирующие и соприкасающиеся, в конечном счете, всегда приводя к определенному конфликту и окончательному извержению, становятся, пожалуй, важнейшим слоем балладного рассказа Шопена, общим и глубоко идентифицированным со своим литературным прототипом.
Баллада фа минор
Четвертая баллада, «Баллада фа минор», Op. 52, владеет всеми вышеупомянутыми чертами жанра. Написанная в 1842 году в Ноане, единственном настоящем доме за границей, который создала для него Жорж Санд в ее загородном имении, где после кризиса здоровья на Майорке и столкновения со смертью Шопен создал свои самые ценные шедевры. Это последняя баллада, хотя Баркарола фа-диез мажор (1845), увенчавшая этот период его творчества, также отчетливо намекает на этот жанр. «Баллада фа минор» отличается еще более глубокой архаизацией, чем другие произведения жанра. Ее главная тема, в своем, можно сказать, колебании сфер имеет некоторые черты баховских тем, а барочная полифония, кажется, искусно гармонирует с классическим вариационным произведением. Форма композиции синтезирует вышеупомянутые драматические тенденции с формой вариации и арочной формовкой, что намекает на влияние классической сонатной формы. Главная тема подвергается вариациям, их постепенное сгущение звукового материала вводит слушателя во все более трогательный, в то же время таинственный мир. Но – как и в других балладах – именно вторая, первоначально тема гимна, превращенная в своеобразный апофеоз, становится целью всех постепенно накапливаемых стремлений. Этот апофеоз, однако, не завершает произведение, а идущая за ним музыка беспрецедентна даже в творчестве Шопена. Связанная со звуковым материалом тем лишь аллюзивно, она является абсолютным апогеем чрезвычайно драматического личного высказывания. Цитируя Мечислава Томашевского: «[…] в кульминации балладного рассказа невозможно найти правильные слова. Этот взрыв страсти и чувства, выраженный из-за шатких пассажей и аккордов, насыщенных гармоническим содержанием, не имеет себе равных. […] Мы сталкиваемся с выражением высочайшей силы, без всякого намека на вкцент или пафос»[4].
Рукопись «Баллады фа минор», представленная на выставке «Романтическая жизнь. Шопен, Шеффер, Делакруа, Санд», является уникальным источником, дающим представление о творческом процессе Шопена, который в большинстве случаев, за неимением сохранившихся эскизов, может быть предметом лишь более или менее вероятных спекуляций. Рукопись содержит первую версию произведения, предназначенную для публикации, но в конце концов неопубликованную. Это исключительная ситуация – композитор пытался использовать даже сильно переработанные рукописи, присылая их французскому издателю, так как он затем прислал ему пробные отпечатки к коррекции. Однако в случае с Балладой, вероятнее всего, после завершения произведения, Шопен решил изменить размер с 6/4 на 6/8, что сделало невозможным использование этой рукописи, поскольку все значения пришлось бы уменьшить вдвое. Поэтому он начал работу заново, несмотря на свое известное нежелание копироваать ноты и хранил рукопись в своих документах до самой смерти. Оригинальный размер может намекать на первую балладу – соль минор – единственную в 6/4, дополняющую такие музыкальные особенности, как минорная тональность (вторая и третья баллады написаны в мажорных тональностях) и идея добавления длительного, драматического завершения произведения после окончательной трансформации основных тем. Однако на завершающих этапах просмотра композитор, вероятно, опасался, что с таким структурированным музыкальным материалом интерпретации могут оказаться слишком статическими. Переход от четвертьнотного к восьмому размеру не означал, что произведение следует играть вдвое быстрее. Музыкальный темп – кроме ритмических значений – зависит от словесных описаний и меток метронома, а также существуют определенные условности темпа самой музыки, например, в танцах. В балладе фа минор в конце концов использовался термин Andante con moto, что означает в умеренном темпе (Andante – это темп ходьбы), но с движением. Шопен, вероятно, считал, что написание ее восьмыми нотами облегчит понимание его намерения сохранить определенный импульс. Восьмые ноты, расположенные по три под балкой, как в размере 6/8, также в определенной степени связаны с традицией записи мелизмов, вокальных фрагментов, в которых несколько нот приходятся на один состав текста. Все эти аргументы свидетельствуют о том, что для него было столь важно, чтобы пианист сохранил нарративный поток, являющийся фундаментальной чертой каждой баллады, что он решил переписать партитуру.
После смерти Шопена рукопись была передана его сестрой Людвикой Енджеевич чешскому композитору Йозефу Дессауэру, который был одним из его парижских друзей (Шопен посвятил ему свой Полонез, Op. 26). Это подтверждается аннотацией на первой странице рукописи: «p[our] M[.] Des[s]auer.», вероятно, сделанной Людвикой в Париже во время ликвидации квартиры по адресу Вандомская площадь, 12. По всей вероятности, что рукопись была завершена к тому времени или охватывала больший фрагмент, чем сохранившийся бифолиум (четыре страницы), на которых было семдесят девять тактов произведения. Оригинальная нотация, безусловно, не заканчивалась там, где она находится сегодня, поскольку музыка обрывается безо всяких признаков завершения в этом месте. Ее замечательное состояние сохранения свидетельствует о том, что она была тщательно сохранена Шопеном, поэтому маловероятно, что она была незавершенна до его смерти. Нет никакой информации о судьбе рукописи до 1933 года, когда она появилась на аукционе в Люцерне уже в виде, представленном сегодня. Его приобрел известный австрийский коллекционер Рудольф Каллир, а во время Второй мировой войны рукопись вывезли в Нью-Йорк, где её хранили его наследники. В декабре 2024 года рукопись приобрел Институт Фридерика Шопена, и она является одним из самых ценных экспонатов в коллекции Музея Фридерика Шопена в Варшаве.
Баллада фа минор», которую считают наивысшим достижением жанра, благодаря ссылке на традиции и установлению направлений для последующих поколений композиторов, благодаря объективности средств и одновременно чрезвычайно личному высказыванию, становится квинтэссенцией синкретизма, специфическим символом романтического восприятия мира, и в то же время вневременным посланием понятным и творчески интерпретированным и по сей день.Поэтому рукопись «Баллады» вместе с радикально другим объектом, служащим свидетельством социальной, общительной и юмористической среды художника – «Веером с карикатурами» Огюста Шарпантье и Жорж Санд – образуют ось выставки «Романтическая жизнь». Как две маски из античного театра, они очерчивают пространство между сакральным и профанным, духом и материей, искусством и жизнью, из которой она рождается. В этом пространстве располагаются материальные следы творчества выдающихся художников, создавая уникальный круг, в центре которого находится дематериализированное пространство, наполненное музыкой «Баллады фа минор» Фредерика Шопена.
[1] А. Мицкевич, Poezye Adama Mickiewicza, Вильнюс 1822, т. I, Предисловие, с. XL.
[2] Этот термин использовал Фридерик Шопен в письме Яну Матушинскому, написанном на Рождество, 26 декабря 1830 года.
[3] Р Шуманн, рецензия двух Ноктюрнов op. 37, Баллады фа мажор, ор. 38 и Вальс ля-бемоль мажор, ор. 42, у: «Neue Zeitschrift für Musik» 15/1841, № 36 від 2 ноября, ст. 141–142.
[4] М. Томашевский, цикл передач Фридерика Шопена Полное собрание сочинений, Программа II Польского радио, отредактированный текст доступен на вебсайте Национального института Фридерика Шопена: https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/kompozycja/115